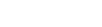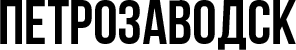Родом из гетто
Все мы, образованные,
знаем так много Божественной истины,
что одной тысячной доли той, которую мы знаем,
было бы достаточно, чтобы сделать
каждого из нас святым.
Но знать истину и жить по истине,
как известно, разные вещи.
Философ и историк Михаил Гершензон
17 января Международный день памяти жертв холокоста
Мария Григорьевна, Маша, Рольникайте – автор книги «Я должна рассказать». Это дневники – записи, которые вела еврейская девочка, попав в Вильнюсское гетто, а затем в нацистские концлагеря – Штрасденгоф и Штутгоф.
Юная Маша прошла через все круги ада, она испытала на себе то, что невозможно даже читать без содрогания, - изощренные пытки и издевательства, нечеловеческий труд, побои и унижения. На ее детских глазах уводили людей на расстрелы и в газовые камеры. В гетто Маша потеряла самых близких людей – маму, сестренку, братика. Перед расстрелом маленькая сестра Маши Раечка спрашивала: «Мама, а когда убивают – больно?»
Из большой семьи Рольникайте в живых остались только сама Маша, ее старшая сестра Мира и отец.
После окончания войны, после освобождения Маша, Мария Григорьевна, вернулась в родной Вильнюс и издала свои записи. Сначала на литовском. Позже – на русском. После издания рукописи в советской России Машу Рольникайте стали называть наша Анна Франк.
Еще в советское время Мария Григорьевна переехала из Вильнюса в Петербург, где и живет до сих пор. Книга «Я должна рассказать» переведена на десятки языков мира. В ней – много скорби и много страданий, но есть и еще что-то, неуловимое и сокровенное, – оставаться человеком можно и нужно в любой ситуации.
«Я живу этой памятью»
- Мария Григорьевна, спасибо, что Вы согласились на эту встречу. После окончания войны, после Вашего освобождения прошло больше 65 лет, а Вы как-то оговорились, что до сих пор не вышли из гетто…
- Я живу этой памятью. Кто-то из бывших узников стал врачом, учителем, инженером… Их жизнь течет полностью в современном русле, так, как и должно быть. А у меня 6 книг – и все они так или иначе о войне. Но, пусть это не покажется выспренным или высокой фразой, ведь не зря мне дано было выжить. И раз тех, кто был со мной, нет, они не могут рассказать, я должна говорить за них, я должна рассказать. Это и название книжки, и вообще вся моя жизнь.
Переехав из Вильнюса в Ленинград, став членом Союза писателей СССР, я часто выступала на встречах с читателями. И записывала все – где, когда и е о чем я говорила – чтобы, если я туда попаду во второй раз, не повторяться. После 385 выступлений я красной ручкой себе написала: «Хватит записывать!»
Очень больно царапать свои раны. Я же не просто рассказываю, я оказываюсь там.
- Простите, что и мне придется вернуть Вас в те дни. Как это было?
- Очень страшно. Уже рано утром 23 июня 1941 года в Вильнюсе жители увидели первые танки с этой грозной свастикой. В первые дни оккупации сразу появились приказы, что евреям необходимо носить опознавательный знак – желтую звезду, запрещено ходить по тротуарам – только по мостовой.
Затем были ужасы гетто. Я после войны стала собирать свой домашний музей. Инструкции, фотографии, наши удостоверения, «паспорта» геттовские… Они менялись постоянно. Мы горько шутили, что гитлеровцы боятся ехать на фронт, поэтому придумывают для нас разные удостоверения, разные акции – так они называли расстрелы, рапортуют в Берлин, сколько расстреляли, и вот этим доказывают свою занятость.
К «паспорту» мы должны были носить на шее номерки. Они ужасно терли кожу, и мы шили чехольчики. Один раз эсэсовский офицер попросил предъявить номерок, и женщина вытащила вместе с чехольчиком. Он разорался, избил ее: «Мы вас расстрелять собираемся, а вы еще свою поганую шкуру бережете».
В гетто ничего нельзя было вносить, но мы старались. Я работала на огородах. Сшила специальный шарфик, сзади он был двойной, и засовывала туда несколько картофелин. Потом работала в казармах уборщицей. Сливала в котелок то, что осталось от солдат. О брезгливости не могло быть и речи. В подмышку прятала, бинтовала руку и якобы раненой рукой проносила остатки супа.
А это на фотографии – концлагерь Штутгоф. Там сейчас все так мирно. Оставлено всего три барака. Так называемый музей. Понимаете, люди, которые сейчас туда приезжают, думают, что мы дураки, раз не удирали. А как было удирать, когда там кругом – пустырь?! И поля были заминированы.
Из концлагеря Собибор в Польше был героический побег – единственный, который удался в том смысле, что немцы были вынуждены ликвидировать лагерь, газовые камеры, засеять все цветочками, как будто ничего не было. Но и там при побеге очень многие погибли: во-первых, в них стреляли с вышек, во-вторых, они подорвались на минах.
Знаете, стремление к жизни – это в человеке есть всегда, даже неосознанное. Хотя были случаи самоубийств, но единичные.
- Что для Вас было самым страшным?
- Самое страшное – когда разлучали с мамой. Была ликвидация Вильнюсского гетто. Нас погнали по улице, в низину. Я понимала, что это – последний день, сейчас расстреляют. Запомнилось, что на куст, возле которого мы сидели, сел воробей, повертел-повертел головой и улетел. И я очень ему позавидовала, что ему можно, а мне нельзя.
А потом ночью… Там было сыро. А мать есть мать – знала, что завтра расстреляют, но боялась, что дети промочат ноги. Она взяла на руки сестренку, я – братика. Он заснул, только вздрагивал во сне, когда солдаты запускали осветительные ракеты – проверяли, не убегаем ли мы. Его теплое дыхание я на всю жизнь запомнила.
А когда утром была дана команда идти, мама решила, что хватит мучиться. Она говорит: «Пошли». Шли через калитку. Я шла первая. Когда мы вышли, солдат схватил меня за пальто и куда-то толкнул. Я стала просить, что это моя мама, мы одна семья, я хочу туда. А мама, видно, сразу поняла, в чем дело. Крикнула: «Не пускайте ее. Она молодая, она может работать». А мне: «Живи, детка, хоть ты одна живи». Таким образом я оказалась среди отобранных, которых из гетто отправили в концлагерь. Это все случайности, что я осталась жива – в такую акцию не попала, в другую…
Смертельно опасный дневник
- Почему Вы, 14-летняя девочка, начали вести в гетто дневник?
- Это была привычка. Я вела дневник еще в школе. Ну там что девчонка пишет –какую отметку поставил учитель, какую книжку прочла, какую тайну доверила подружка… Теперь всем не до этого, теперь все сильно образованные, все с компьютерами. Кроме того, у нас были такие альбомчики. Мы друг другу вписывали на память. Я помню стишок, который написала: «Когда будешь старушкой, и у тебя будет старик, надев очки, эти строчки прочти». Это было по-литовски зарифмовано. И, может быть, поэтому я писала дневник, как бы продолжала записывать то, что происходит.
Когда началась оккупация, еще до гетто, я стеснялась выйти на улицу с этими желтыми звездами. Стеснялась, что надо будет ходить не по тротуару, а по проезжей части. А вдруг встречу учителя или кого-то из учеников. Они идут как люди, а я иду, как лошадь. Я сидела в папином опустевшем кабинете и записывала.
А потом... В нашей школе над доской висели оба полушария – карта мира. И я как-то вспомнила об этом. Господи, целые страны, где нет Гитлера, где ничего этого не будет. Пусть люди знают, что тут творилось. И тогда я стала сознательно, насколько это возможно в 14 лет, все записывать.
Надо сказать, что в гетто никто не смеялся над таким доморощенным летописцем. Наоборот, мне говорили: «Маша, ты знаешь, этой ночью было то-то и то-то, Маша, ты записала то-то и то-то».
А когда эсэсовский офицер, наш палач Мурер, стал устраивать облавы, мы поняли: если он появится во дворе, надо сжечь мои записи. Потому что не дай Бог он это найдет. Тогда пострадает все гетто. Потому что если он что-нибудь находил… Как-то он нашел на подоконнике тюбик от бывшей губной помады. Кто-то не убрал. Ну, кому там вообще до губной помады было. «Ах, вам еще косметика!» И забрали, на расстрел, женщин всей этой комнаты. И поэтому, хоть дефицит спичек был самый страшный, на моих бумажках всегда лежал коробок с двумя спичками, и соседи знали: появится Мурер, надо все это бросить в огонь.
Потом по совету мамы я стала заучивать свои записи.
- Когда Вас освободили?
- 10 марта 1945 года. Это второй день рождение. Я после освобождения – мне было неполных 18 лет – весила 38 килограмм. Дохлятина. Солдаты на руках вынесли, уже не в состоянии была ходить.
Тогда впервые за много лет я заплакала – от понимания, что теперь меня не убьют. Я сама себя уверяла: теперь меня уже не убьют, теперь меня уже не убьют. И текли слезы.
Вообще, самое ужасное – это осознание близости смерти, что каждая ночь может быть последней и каждый день может быть последним. И только в лагере мы знали, что в воскресенье селекции не будет, в воскресенье им не до этого. Это нам казалось таким долгожительством, что доживем до понедельника.
С 38 килограммов я очень быстро набрала 78. Было все время такое ощущение, что хочу есть. Главная мечта была в лагере, что на столе будет лежать буханка хлеба, и я смогу отрезать, сколько хочу. Даже сейчас торт, пирожные я могу спокойно выбросить. Хлеб – ни за что, скормлю птичкам.
- А что было после гетто, после концлагерей?
- Сначала был фильтрационный пункт НКВД. Самое смешное, что я вернулась из за рубежа. Так было сказано в справке, которую мне выдали после допроса. И ни слова о концлагерях.
В фильтрационном пункте меня долго не держали. Благодаря тому, что я знала наизусть весь свой дневник, я все шпарила, шпарила. Когда дошла до того момента, как нас разлучили с мамой, КГБшный офицер говорит: «Отдохни, а я закурю».
И ему было понятно, что я не шпионка. Без передних зубов, выбили в лагере, еле отрос ежик волос – мы же были бритоголовые – с плевритом. Потому что возвращались на крыше вагона! До сих пор, когда вижу товарные вагоны, у них же покатые крыши, думаю, как я могла так ехать 9 суток?! А мы так: одна лежит, двое сидят с разных сторон, чтобы держать. С тех пор – астма. Отголосок. Все – отголоски.
Я долго не могла привыкнуть к мирной жизни. Испуганно спохватывалась, что иду не по мостовой, а по тротуару, или без желтой звезды…
Папа очень хотел, чтобы я продолжала учебу. Я же кончила 7 классов. Я говорила, ну зачем это мне? Какая разница, сколько а плюс б в квадрате и куда впадает Миссисипи. Главное, у кого была винтовка. И два года я не могла решиться пойти в эту вечернюю школу. И когда, наконец, пошла, и первый урок был алгебра, икс и игрек, для меня это было тоже самое, что японские иероглифы. Потом втянулось, понравилось, даже кончила – золотые медали в вечерней школе не дают – но были одни пятерки.
- А как Вы оказались в Петербурге?
- Замуж вышла за ленинградца. Я долго не выходила. Это получилось случайно. Я отдыхала в Паланге, это курортный город в Литве, моей соседкой была ленинградка. Мы разговорились: «Да, я окончила Литературный институт». Она говорит: «Ой, у меня племянник тоже писал стихи, но потом стал инженером, поняв, что поэтом не будет. Пусть он вам как-нибудь пришлет свои стихи». «Ну, пусть присылает».
И он мне прислал стихи, от которых я пришла в ужас. Написала ему в ответ, что это подражание Маяковскому, и хорошо, что вы пошли в инженеры. Я так понимала, что он только-только пошел в институт.
А потом получила от него ответ: «Строгий, но справедливый критик Маша, здравствуйте! Вы правы. Но в одном вы ошиблись: я стихи начал писать не на школьной скамье, а после армии, куда попал студентом второго курса». Думаю: «Боже, к началу войны я семь классов едва кончила, а он уже два курса. Значит, как минимум на 5 лет меня старше. А я его как мальчишку отчитала». Мы стали переписываться, потом он приехал знакомиться, пригласил меня сюда.
Книга жизни
- Когда Вы решили издать свой дневник, как рукопись стала той книгой, которую теперь знают во всем мире?
- До начала 1960-х годов вообще никто не знал, что у меня есть эта рукопись. Потому что я знала о судьбе «Черной книги» Ильи Эренбурга и Василия Гроссмана, весь набор которой, и рукопись были уничтожены. Поэтому и в Литературный институт в Москве я поступала не со своими дневниками, а с какой-то глупой пьеской.
Только в 62 году книжка вышла на литовском языке. Крови у меня тогда выпили два ведра. Как они придирались! Мою рукопись послали на рецензию в Институт истории партии. Год держали. Я не понимала, каких блох они там ищут. Наконец, получила уничтожающую рецензию, что книжка написана не марксистской точки зрения. В общем, много-много всякого надо переделать.
Потом они хотели снять посвящение. Книга посвящается памяти мамы, сестренки и братика. Были ночи, когда я не спала, решила: все, к черту, бросаю. Я говорю редактору: «Почему нельзя посвящение, что в этом антисоветского?» «Нет, не поэтому. - сказал он. -Для посвящения нужна отдельная страница, а у нас плохо с бумагой». Я говорю: «Хорошо, снимем на первой странице пару абзацев». Вот так пришлось все отвоевывать.
Мария Рольникайте
В то время, когда я ждала результатов той подлой рецензии, рукописью заинтересовался Эренбург. И я стала переводить дневники с идиша – в оригинале они написаны на идиш, на котором он не читал – на русский язык. Я и не думала о печатании на русском, стала для него переводить. Взяла отпуск за свой счет, села за пишущую машинку…
Потом Эренбург написал: «Приезжайте». Я отвезла ему все материалы. Он тогда сказал, что очень занят, прочтет нескоро. А уже через пару дней прибывает письмо, смотрю обратный адрес – Эренбург. Это письмо приводится во многих изданиях: «Вашу рукопись прочел, не отрываясь. Когда она выйдет на литовском языке, я помогу ее издать на иностранных». В 1967 году книга была издана во Франции, первый раз с предисловием Эренбурга.
- Потом книгу издали на немецком языке, в Германии…
- Это было в каком-то 1990-м году. В Вильнюсе было мероприятие, посвященное Вильнюсскому гетто. Нас повезли Понары – место, где расстреливали узников гетто. Я села в автобус, кто-то сел рядом – представилась, журналистка из Германии, и задает мне вопросы. А мы едем по дороге, по которой людей гнали на расстрел. Думаю, оставила бы ты меня в покое, но отвечаю.
Потом она приехала ко мне в Ленинграде с заказом от четырех немецких радиостанций брать интервью. И когда я ей рассказала все более подробно, она говорит: «Эта книжка должна выйти на немецком». Я ей ответила немецкой поговоркой: «Это слишком красиво, чтобы быть правдой». А она сказала: «Нет, это вопрос моей чести».
Так книга была издана в Германии. Первое издание было такое шикарное, с суперобложкой. Потом они выпустили карманное. Потому что это шикарное стоило 19 с чем-то евро, а карманное – 9, чтобы студенты могли купить.
Теперь, мне написали, в Германии вышло уже четвертое издание, что все раскуплено.
- Простить то, что было, можно?
- Вы знаете, как-то в Германии, на выступлении, один пожилой человек – на встречу приходили пожилые люди – во время войны они или были детьми, или только родились. Так вот он встал и спросил: «Вы нам когда-нибудь сможете это простить?» Я ответила: «Тех не прощаю, а вы ни при чем».
Знаете, это политика: была страшная безработица. Гитлер обещал золотые горы. Тут надо вникать глубоко в историю.
Помню, когда Гитлер уже пришел к власти в Германии, у нас в Литве все очень тревожились. Папа и его коллега слушали радио. Передавали речи Гитлера. Кричали: «Зиг хайль». Я не очень понимала. Только когда дядю, папиного брата – он был совладелец небольшого магазинчика – вывезли в Сибирь, мама очень плакала, а папа сказала: «Мы еще им будем завидовать». У меня эта фраза прошла мимо ушей, а в гетто я вспоминала.
- А были те, кто несмотря ни на что, помогал?
- Наш учитель Генрикас Йонайтис. Где могу, я о нем рассказываю. Он нам очень помогал. До гетто несколько раз ночевал в папином кабинете. Когда приходили немцы, он говорил: «Евреев здесь давно нет, их уже увели». Предъявлял свои документы и дальше передней не пускал.
Потом он в гетто помогал, с риском для жизни приносил продукты. Если бы немцы в тот момент были у ворот, что бы ему было за эту буханку хлеба!
Он сохранил многие наши вещи – еврейскую энциклопедию, всю папину библиотеку. Мама его умоляла, чтобы он – у папы на книгах был штампик «Доктор юри. Рольникас» - все еврейское уничтожил. Потому что только за хранение еврейских вещей тоже полагалась смертная казнь. Когда я вернулась из лагеря, смотрю – все это стоит у папы. «Папа, откуда это у тебя?» «Мне Йонайтис вернул!» Я ему потом говорю: «Вы же сказали маме, что все это уничтожили». А он: «А, чтобы она не волновалась».
Это редкий человек!
- А как вообще можно этого избежать, этой жестокости в людях, этой ужасной агрессии, нетерпимости к другим?
- Рецептов нет. Надо прививать с детства, надо воспитывать. Не зря есть немецкое выражение: дом детства. Вот что получил в детстве, какими были родители, что видел в раннем возрасте, таким и будешь. Хотя говорят: в семье не без урода. Но уродов очень мало.
Я что могла, то делала. Столько лет! С 1962 года, как вышла книжка, так не вылезаю из этого времени. Но дело в том – и в этом и моя трагедия в том числе – что читают хорошие люди, сочувствующие. Правильно, надо чтобы они знали. Но подлецы, которые убивают, не читают. Однажды после выступления двое молодых парней подали мне пальто, пошли провожать, и один из них говорит: «Мария Григорьевна, вам не кажется, что Вы – Дон Кихот». Я сказала: «Кажется».
Еще одни слова я запомнила на всю жизнь. Это замечательный литовский поэт Эдуардас Межелайтис сказал: «Твоя книга - для равнодушных». Злые – злыми и останутся, а равнодушных, может, это тронет…
Беседовала Даша Аторина