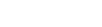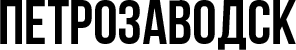Художник, который видел Хрущева и Солженицына, приехал в Петрозаводск
Текст и фото: Хельга Белянцева
В конце марта в Петрозаводске открылась выставка народного художника России, действительного члена российской Академии художеств Павла Федоровича Никонова и московского фотографа Рауля Скрылева. Павел Никонов, которому в прошлом году исполнилось 90 лет, сам приехал в Карелию вместе со своими работами. Мастер провел творческую встречу, в которой участвовали также Рауль Скрылев и куратор выставки Ольга Томсон.
Все места, подготовленные для слушателей в Городском выставочном зале, были заняты. На протяжении двух часов аудитория, большую часть которой составляла молодежь, затаив дыхание слушала истории легендарного мастера. А он с юмором и многочисленными примерами рассказывал о том, как складывался его метод живописи, и о сложном и интересном времени «шестидесятников».
— Поколение художников, к которому я принадлежу, начинало свой творческий путь с середины 1950-х и в 60-е годы — нас называют «шестидесятниками», — рассказывает Павел Никонов. — Это был период очень важный в истории нашего государства и, в частности, для нашей культуры. Тогда прошел XXII-й съезд партии, где прозвучал доклад Хрущева о культе личности. Это и все остальные события, которые молниеносно развивались, привели к тому, что называется «оттепелью». Все это было важно не только для художников, но и для всего нашего искусства — тогда произошли очень крупные события и в литературе, и в музыке. Кульминацией стала выставка "30 лет МОСХа", которая прошла в Манеже.
В 1957 году в Москве проводили Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Впервые к нам приехали художники из-за рубежа и мы смогли увидеть и оценить, какое место мы занимаем в развитии мирового изобразительного искусства послевоенного периода. Во время фестиваля, в Парке культуры в Москве, в павильоне, который называли «шестигранником», была устроена студия, где выставлялись художники, приглашенные на фестиваль. Мы впервые увидели, что такое абстракция. Тогда ни в одном музее нам это искусство не показывали.
Хотя был колоссальный подъем такого искусства в 20-е годы: Малевич, Шагал, Татлин… Все эти фамилии были нам известны, но ни одной работы в подлиннике мы не видели. Третьяковская галерея завершала свой показ изобразительного искусства Врубелем. Музей новой западной живописи был закрыт с убийственной характеристикой, как «представляющий буржуазное искусство», вредное для нашего народа.
И на этом фоне такой неожиданный прорыв — общая выставка на фестивале молодежи и студентов, где наша страна участвовала дипломными работами, в том числе и моя дипломная работа там была выставлена. И я сразу почувствовал, что сравнение было не в нашу пользу. Да, наши работы были выполнены на определенном уровне, отвечали требованиям академического учебного заведения, но свободой, непосредственностью, артистизмом мы бесспорно уступали.
Нас, конечно, потом награждали медалями (смеется). Председателем жюри был Соколов-Скаля, мой педагог. Мы видели его последние работы — «Сталин в ссылке», еще что-то такое, но мы не знали, что в 20-е годы он был великолепным художником. Он мне простодушно рассказал: «Ну, что, Никонов, мы тебе медаль дадим. Пришлось поработать — я с ГДР договорился, с Польшей, сказал, если вы поддержите нас, и мы поддержим вас, в общем, набрали голоса. Так что не волнуйтесь, пробьемся!» Я его понимаю, он был председателем жюри и радовался тому, что мы «прорвались». Но мы понимали, что надо искать свои пути.
Этому очень способствовали события, которые потом развернулись на выставке 30-летия МОСХа. Эта выставка перевернула сознание большинства людей, которые интересовались изобразительным искусством. Когда ее организовывали, председатель МОСХ Шмаринов сформировал выставком и нас туда пригласил. Он предложил нам: ребята, разыскивайте художников, которые были в 32 году приняты в союз. Потом были чистки в союзе, за формализм изгоняли, многие были репрессированы. И вот мы стали ходить по мастерским, по адресам. Таким образом сложилась колоссальная часть выставки из работ этих художников. Мы впервые показали Щипицына, Голополосова, впервые был показан Древин, Удальцова, Павел Кузнецов и Кончаловский с ранними работами, Машков...
Раньше экспозиция делалась так: первый зал — официальные портреты вождей, потом тематические картины, а затем натюрморты, пейзажи… Но мы решили этих художников показать в первом ряду, потому что это было самым острым и самым главным в этой выставке. Надо сказать, что выставка прозвучала — вокруг Манежа сразу образовалась толпа. Очень помогло и правительственное коммюнике о недостатках этой выставки и, конечно, визит Хрущева в Манеж.
Официальные окрики и призывы быть послушными уже на нас не действовали — из бутылки был выпущен джин. Впервые художники оказались во главе колоссального общественного движения. После выставки 30-летия МОСХа были еще две встречи Хрущева с интеллигенцией, куда пригласили и молодежь. Это были события невероятно важные, потому что впервые интеллигенция могла выйти на прямой разговор с правительством.
В Манеже наверху разместили Белютинскую студию и там были работы Эрнста Неизвестного. Хрущев возмутился: «Откуда так много меди? Ты что, воруешь краны?». Конечно, он был неподготовлен абсолютно. Но больше всего его возмутил холст «Обнаженная» Фалька. Это потрясающий холст, шедевр! Но написано тело так, что там есть какие-то синие, зеленые тона, она сама темная, но светится живописью. Никита Сергеевич, конечно, не понял. Он стал говорить о женском теле, мол, что это за безобразие — синяки у нее что ли? В общем, какие-то шутки у него пошли неудачные. Ему говорили: «Ничего, он еще покажет себя». «Нет, не покажет — горбатого могила исправит!», — отвечал Хрущев.
То есть был постоянный спор, откровенный обмен мнениями — впервые в истории Советского Союза руководитель партии и правительства вынужден был выслушивать какие-то реплики, выступления, где высказывается несогласие. Сам факт, что можно наравне говорить и спорить, раскрепостил аудиторию художников и литераторов. Мы поняли, что наша культура вот-вот пробьется — так оно и получилось. Надо отдать должное — Хрущев ни одной работы с выставки не снял, хотя многое было подвергнуто остракизму.
Вслед за этим произошло еще одно важное событие для меня и других художников. Искусствоведом, который вел у нас в Академии историю искусств, была Мюда Наумовна Яблонская. Она же была и сотрудником Третьяковской галереи. Зная художников, кому можно доверять, она пригласила нас и сказала: «Я вам покажу запасники».
Эти запасники были тогда закрыты и вот почему. Была такая журналистка Камилла Грей, она имела доступ в эти запасники благодаря тому, что каким-то образом познакомилась с сыном композитора Прокофьева — Олегом Прокофьевым. Камилла Грей потом написала книгу «Великий эксперимент». После этого правительство запретило допуск в запасники.
А Мюда Наумовна, рискуя потерять место главного смотрителя, пригласила нас. Этот запасник был в церкви, которая и сейчас стоит во дворе Третьяковки, но тогда она была без луковиц, без крестов, запущенная — складское помещение.
В этой церкви были грубо сколоченные полки и оттуда она выдвигала работы. И мы увидели Машкова, Кончаловкого, «Квадрат» Малевича, Шагала… Это было потрясение! А с другой стороны, возмущение — какое они имеют право это контролировать, мы хотим это видеть!
То, что это так долго скрывали, нанесло невероятный урон нашему изобразительному искусству. Нам приходилось изобретать велосипед, когда уже все на машинах ездили. Так называемый «суровый стиль», который вошел в историю искусства благодаря работам «шестидесятников», это была попытка вырваться, но с негодными возможностями. Я расцениваю этот период как «последнюю вспышку соцреализма». Хотя и в эпоху соцреализма были великолепные вещи, но они от нас скрывались. Я все это увидел, когда мне было уже тридцать лет, даже больше.
Меня и Фивейского, так как мы получили медали, отправили в Чехословакию. Мне повезло — руководитель нашей группы заболел, и мне пришлось там остаться дольше. Жил я на квартире у председателя Союза художников Чехословакии. А его жена — сестра художника Бурлюка. Она меня попросила пропылесосить в комнате, и я наткнулся под кроватью на кипы журналов — белоэмигрантская литература. И вот оттуда я узнал, что такое Шагал и другие художники, которые эмигрировали. О них ни слова у нас не говорили.
Вот такие крохи мы собирали, и я считаю, что мы скованы очень долго были. И я хочу сказать, что куратор этой выставки отдала предпочтение моим последним работам, и я очень благодарен, что она именно так сделала, потому что я только сейчас почувствовал какую-то свободу, раскрепощенность, радость от работы! Раньше мы были очень зажаты. Помимо того, что была цензура, была, что еще хуже, самоцензура. Ну как нарисовать портрет без рта и без глаз? Нас ведь учили не так.
Что мы только прошли! Вокруг моих «Геологов» был какой скандал! А что там такого? А тогда это вызвало целую бурю негодования. Так что мы, конечно, прошли очень тяжелый путь поиска самого себя.
Подъем, который пережили художники в годы оттепели, таким же образом отразился и на литературе. Я расскажу, как Хрущев представил нам Солженицына на второй встрече с интеллигенцией. Тогда и в рядах художников, и в рядах литераторов произошел раскол. Были очень реакционные. Шолохов про Солженицына говорил: «Таких к стенке ставили в 20-е!»...
Хрущев еще на первой встрече нам рассказывал, что «Новый мир» опубликовал повесть «Один день Ивана Денисовича». В середине второй встречи у нас был небольшой банкет. После обеда началось обсуждение, а я смотрю, ко мне спиной сидит дядька в туфлях, подбитых красной резиной. Вообще там публика была разношерстная — кто как одет. Шолохов пришел в казачьей форме с галунами, как в театре. А тут человек сидит в обуви, подбитой красной резиной.
Хрущев говорит: «Я вот вам хочу рассказать про «Новый мир» и про Солженицына». И стал говорить про повесть «Один день Ивана Денисовича». А там есть такой эпизод — Иван Денисович, для того чтобы сберечь силы, старался их как можно меньше тратить на пустяки, потому что ему еще сидеть и сидеть. И вот рабочая смена заканчивается, а у него остался раствор для кладки. А уже свисток, всех нужно собирать. И он остается доложить стенку, использовать раствор, чтобы на следующий день не надо был тратить время, ломать и вычищать остатки. То есть Солженицын показывает, что только так можно было выжить. А Хрущев трактует совершенно иначе. Он говорит: «Посмотрите, в таких условиях человек, а думает о передовых методах, и тут хочет быть ударником. Давайте ему поаплодируем!»
А зал гигантский, и вот все встают, хлопают, а я ищу глазами Солженицына — где же он? Потом все садятся и остается человек, у которого обувь резиной подбита. Это Солженицын был. И Шолохов, который только что говорил, что Солженицына к стенке надо, вынужден был тоже хлопать!
Этот конфликт среди интеллигенции был вызван номенклатурой, в том числе председателем Ленинградского союза художников Серовым — они даже написали письмо на имя Хрущева. Писали: что же такое — вы нас учили, что искусство должно быть национальным по форме, социалистическим по содержанию. А что мы видим сейчас — партия отказалась от этих постулатов?
А Илья Григорьевич Эренбург позвал нас, молодых ребят, и сказал, что написал ответное письмо, где он обращается от имени деятелей культуры. Там он написал, что критика нужна, и споры нужны, но главное следить, чтобы вместе с водой не выплеснуть и ребенка. Нам он сказал: нужно, чтобы это подписали такие как Фаворский, Шостакович и другие ведущие деятели культуры. Вот так действовали. И номенклатура понимала, что если прорвутся те огольцы, они потеряют все свои преимущества.
Серов, который организовал всю эту провокацию, фактически вынудил Хрущева пойти и на эту выставку в Манеже. Хрущев не хотел идти ни в какую. Тогда Серов, чтобы вытащить его туда, уговорил руководителя художественной студии Белютина, который преподавал запрещенную официально абстракцию, сделать свою выставку в Манеже рядом с выставкой 30-летия МОСХ. Он эти абстракции за одну ночь перевез в Манеж, и Хрущева повел сразу на эту Белютинскую выставку. И вот он увидел эти работы, а еще рядом Эрнста Неизвестного.
После этого Никита Сергеевич был уже очень «разогрет», ругался, и тут Серов подводит его к моей работе «Геологи» и говорит: «Вот за это мы три тысячи заплатили». А он наврал — я получил только аванс 25%, за то что я полгода с геологами ходил. Хрущев эту работу раскритиковал. Поэтому я должен был вернуть аванс, но Серов сказал: «Если не хочешь возвращать, признай ее творческой неудачей». Ну, я и написал что требовалось, а работу забрал.
Мастерская у меня небольшая, хранить ее негде, а там же холст, подрамник — это все стоит денег. Я положил ее на пол и уже собирался залить с другой стороны кипятком, чтобы очистить холст от краски. И тут ко мне пришел Таир Салахов, он тогда был секретарем Союза художников СССР. Спрашивает: ты что делаешь? Я объяснил. Тогда он говорит: «Давай, я тебе холст достану, а ты мне отдашь работу». Скрутил и ушел. И увез ее в Баку. А там был вторым секретарем Петр Матвеевич Елистратов — невероятно прогрессивный человек. Ему Салахов и привез «Геологов», он их повесил у себя на даче и картина у него была до 80-х годов. Когда директором Третьяковки стал Королев, он узнал, что «Геологи» у Елистратова и тот отдал с условием, чтобы эта работа была в экспозиции.
И еще одну мою работу постигла такая же участь — «Штаб Октября». Это был большой заказ, я был ему очень обрадован. Когда я учился в школе, в учебниках писали — «октябрьский переворот», а не революция. И я решил — если переворот, значит — заговор. То есть Ленин и его соратники собрались и решили в эту ночь взять власть в свои руки. А тогда в творческих союзах играли большую роль парткомы. И один из членов парткома написал заказчику, что работа безобразная и совершенно неправильно трактует октябрьские события. И заказчик прислал отказ. Но на мое счастье тогда в Москву приехал Василий Алексеевич Пушкарев, и он узнал об этом. Посмотрел, спросил: «Она вам не нужна? — Нет». И забрал — потом она неоднократно выставлялась в экспозиции Русского музея. Так что опыт с «творческими неудачами» у меня довольно большой.
Но все проблемы, которые у нас были в то время, по сравнению с теми, что стоят сейчас перед молодыми художниками, кажутся детскими переживаниями, — подводит итог Павел Никонов. — Самое больное — это абсолютная невостребованность. Несмотря на то, что мы были скованы и неинформированы, у нас не было ощущения потерянности, мы не на улице оказывались после окончания института. Потому что организация сбыта для художников была очень продумана.
Существовал институт кандидатов в Союз художников. Туда принимали любого работающего художника — это уже давало ему какие-то преференции. Он мог рассчитывать на то, что его выставят, дадут какую-то помощь. У него была возможность стать членом Союза и получить мастерскую. Был еще художественный фонд. По всей стране собирали заказы от богатых организаций — в основном это были среднеазиатские хлопковые совхозы, нефтяные разработки в Сибири — они делали большие выгодные заказы, которые распределяли среди художников.
То есть была материальная база, а сейчас этого нет. И самое неприятное то, что сейчас такое время, что основной заказчик — ширпотреб. Вот к чему привел так называемый рынок. Ширпотреб — это самое страшное, что можно придумать для художника.